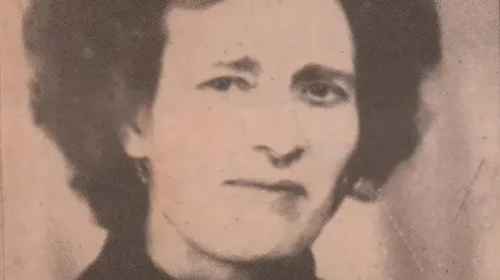Цовак Оганесович Алихонян
Ц.О. Алихонян: справка
Сегодня Ц.О. Алихоняна помнят только старожилы. Это был неординарный, колоритный человек. Я был хорошо знаком с ним. А познакомился при таких обстоятельствах.
Он был из когорты тех направленцев («тысячников»), которых в 56-х годах партия направила в село для укрепления руководства колхозами. В 1955 г. он, выпускник Московского госуниверситета, принял колхоз «Серп и молот». Партия не ошиблась в нем. Ему было немного за сорок, высокий, статный, крепкого телосложения, чернявый, с характерным сипловатым голосом, свойственным для кавказских народов. Держался свободно, уверенно, с достоинством со всеми чинами. По образованию — юрист.
Знакомство
На моем участке на ул. Пушкинской (бывшей Острожной) проживал больной, у которого периодически случались приступы мерцательной аритмии. Как правило, они возникают после каких-то треволнений. От него поступил вызов.
«Что случилось, Василий Филиппович?» — спрашиваю пациента.
Рассказал, что расстроился, узнав о намерении председателя колхоза (назвал его фамилию) «отрезать» излишки его земельного участка, в том числе и под садом. Как смог, успокоил больного, пообещав переговорить с председателем колхоза. В ближайший день пошел на переговоры. Слышал, что Алихонян слыл жестким, твердым, неуступчивым руководителем.
В конце улицы Пушкинской, метрах в ста в отрыве от нее, нашел старый неприглядный дом, в котором размещалась контора колхоза. Посетителей никого не было. В кабинете за столом увидел не совсем ухоженного, небритого человека. Представился. Он оторвался от бумаг, с любопытством рассматривая меня. Увидел на его лице отражение интереса к моей персоне. Объяснил причину прихода. Выслушав, сказал: «Первый раз в Сергаче вижу человека в качестве заступника за кого-то». Ничего не объясняя, достал из тумбочки стола початую бутылку коньяка (очевидно, армянского), разлил наполовину в не очень чистые стаканы, сказал: «Давайте… за знакомство. Вы мне нравитесь». Я не отказался, тем более что коньяк пробовал впервые. Хмельное развязывает языки, мы разговорились. Он немного рассказал о себе, я — тоже. В итоге он обещал не делать никакого урезания земли. Поблагодарив за это решение, я пригласил его к себе в удобное для него время.» В этот же день навестил подопечного больного, обрадовав его положительным решением вопроса, за что получил сердечное спасибо.
Штрихи к портрету
Через несколько дней Цовак Оганесович навестил нас. Так мы подружились на многие годы. Пригласил нас (меня и супругу) на шашлыки в лес у «Серебряного ключа». Как-то уже под вечер он заехал за нами. Пока я разводил костер, он колдовал над приготовлением угощения: резал мясо, солил, сдабривал специями и тд. Шашлык экспромтом! Вид Цовака Оганесовича с окровавленными руками запомнился навсегда. В свете огня от костра он очень походил на дикаря, разделывавшего только что пойманного зверя. Через какое-то время шашлык был готов и под горячительное мы с удовольствием его употребили.
Лесная тишина, костер, уединение от мирского, соединение с природой, ночь (уже звезды посылали нам свои приветствия сквозь свободные пространства меж ветвей еще не очень высоких сосен), воздух, напоенный запахом хвои, первозданная тишина — наслаждали нас. Такое не забывается. Это было в 1960 году.
Его дела
Цовак Оганесович был хорошим хозяйственником. Ответственное отношение к делу, юридическое образование, многочисленные связи с чиновным миром, в том числе и в Министерстве сельского хозяйства СССР, помогли ему вывести колхоз в миллионеры Он в то время уже был рыночником, но не абсурдным, каких сейчас море. Сейчас слово «рыночник» ассоциируется со словом «жулик», носит криминальный оттенок. А ведь в словосочетании «рыночное — социальное» по сути дела нет антогонистического противоречия. Беда наша, по-моему, в том, что у нас нет культуры рыночных отношений (откуда ей было взяться?), и в рынок бросились жулье, хапуги, все, кто не имел ни стыда, ни совести. Да и власти, как таковой, не было. Но… вернемся к Цоваку Оганесовичу.
Он очень много сделал для колхоза и города: обустроил все колхозные дворы, построил 2-этажное здание конторы колхоза, сделал каскад прудов в Брыни, на выезде из Сергача в сторону с. Богородское построил Дом культуры из армянского туфа, который привозился железной дорогой. На базе этого здания было открыто профессиональное училище.
Следующей его затеей было строительство Дома отдыха в сосновом бору, вблизи «Серебряного ключа». Лучшего места для такого объекта просто найти невозможно: недалеко от города, в лесу, у ключа, где еще в дореволюционные времена была часовня и проводились торжественные молебны по тем или иным случаям. Недаром это ключ имеет второе название — «Святой».
Кажется, как колхозный Дом отдыха это здание не функционировало. Позднее, когда Цовака Оганесовича уже не было в Сергаче, здание выкупила железная дорога, построив здесь целый комплекс корпусов, на базе которых открыт санаторий — профилакторий, функционирующий и поныне.
Заслуга Цовака Оганесовича и в образовании улицы Зеленая, что выше Пушкинской. В самом начале будущей улицы построил себе кирпичный дом. Это был обычный одноэтажный дом без готических башенок и прочих завихрений на крышах, с прихожей, кухней, передней залой, спальней. Все просто и практично. За его домом началось строительство других, и довольно быстро возникла новая улица в г. Сергаче. названная, поскольку выходила в поле, безлико Зеленой. По праву она должна носить имя Ц.О. Алихоняна в честь его заслуг перед городом.

Дополнение к портрету
Недостатком его, наверное, была излишняя самостоятельность, резкость суждений в адрес местных властей и выше. Помню, в кулуарах на каком-то районном совещании, посвященном Постановлению Совмина о дальнейшем развитии сельского хозяйства в стране, он горячо кому-то из районного начальства доказывал, что Постановление ничего не дает нового, приводил свои аргументы.
Как-то около милиции я увидел его в компании своих коллег. Подошел к ним. В руках он держал толстую книгу. Прочитал: «Патогенез болезней цивилизации». Издание Академии наук Венгрии, Будапешт, 1976 г.». Я попросил посмотреть. Полистав, сказал шутя: «Эта книга не вашего профиля». Он быстро достал ручку, развернул книгу, подписал: «В.Н. Баландину. Алихонян. 10 июня 1976 г.» и протянул мне. Она хранится у меня, как память о нем.
Постоянной подруги, которая бы стала спутницей его жизни в Сергаче, а жил он здесь более 20 лет, не нашел. Неупорядоченный образ жизни, питание кое-как, работа невпроворот, неумеренное курение подорвали его здоровье: нажил гипертоническую болезнь, от которой неоднократно лечился в одной из московских больниц. Но… болезнь брала свое. В 1977 г. он выбыл к себе на родину, где его парализовало и настигла смерть. Жаль, ему, кажется, не было и 60 лет.
Сейчас мало, кто помнит его. Нет и колхоза-миллионера, которым он много лет руководил, нет той власти ни в городе, ни в стране, да и страны той нет. Остались улица Зеленая, санаторий-профилакторий, ПТУ, которые помнят Вас. И ваша книга «Патогенез болезней цивилизации» с Вашей дарственной подписью. И немного еще живущих, видевших Вас, разговаривавших с Вами. Да будет пухом земля, которая упокоила Вас на Вашей родине.
По материалам книги «Мой Сергач» В. Баландина
PS
Я тоже помню Ц.О. Алихоняна — эту неординарную личность. Еще учась в начальной школе наша первая учительница Ольга Павловна Позднякова водила нас на экскурсию, на ферму колхоза «Серп и Молот». Помню его особенное, волевое лицо с небритой щетиной и его кожанные, не очень чистые сапоги. Цовак Оганесович обо всем нам (малышам) рассказывал сам: и о коровах, о механизации на ферме, о породах коров и об удоях…